Эйнштейн и музыка. Часть третья.
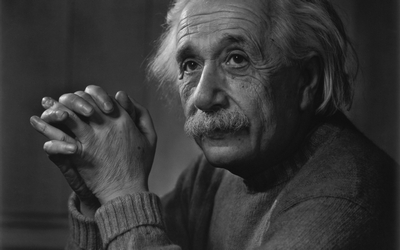
Не кажется ли, однако, странным, что Эйнштейн, научное видение которого — удивительный пример новаторства, смелости, оригинальности, в музыке устремлен не в будущее и даже не в настоящее, а в прошлое? Создается впечатление, что музыкальные тяготения у него обратно пропорциональны расстоянию во времени — с наибольшей силой они проявляются к эпохе Баха, Моцарта, Бетховена (200—100 лет назад), слабее ощущаются в век романтизма — Шуберта, Шопена, Шумана (100—50 лет назад), ослабевают в период неоромантиков — Листа, Вагнера и становятся совсем слабыми в современную Эйнштейну эпоху, то есть именно ту, которая сделала возможным появление теории относительности и других работ Эйнштейна: Дебюсси, и Равель, Рихард Штраус и Малер, Прокофьев, Барток, Хиндемит, Онеггер, Шостакович и даже наиболее смелые художники, которые должны, казалось бы, быть близкими Эйнштейну,— Стравинский, Шёнберг, Берг, Веберн — оставляют его холодным.
Но еще более достойно удивления, что сами эти композиторы, создавая новаторские произведения, во многом определяющие пути развития музыки XX столетия («Весна священная» Стравинского, «Лунный Пьеро» Шёнберга, «Воццек» Берга) испытывали, как и Эйнштейн, сильнейшее тяготение к музыке старых мастеров — Джезуальдо, Перголези (Стравинский), Бетховену, Баху (Шёнберг, Веберн, Берг) и другим. Так художник отходит от еще сырого холста, чтобы охватить целое. Так историк способен осмыслить события, лишь когда они становятся «прошлым».
Нельзя ссылаться на то, что Эйнштейн якобы «не понимал» музыку современных ему композиторов в силу ее сложности, жесткости, обилия диссонансов. «Эмансипация диссонанса», провозглашенная Шёнбергом, пришла в музыку извне: наш сложный, тревожный век эмансипировал диссонанс в самой жизни. И композитор, создавая модель окружающего его мира, не может писать иначе, даже если испытывает, по выражению того же Шёнберга, «тоску по консонансу».
Эйнштейн не мог не понять, а принять диссонанс ни в жизни (известно его глубокое разочарование от утраты этического начала), ни в искусстве (именно здесь корни неприятия им современной музыки и «бегство» к Моцарту!), ни в науке (отсюда мучительные поиски единой теории поля).
Случайно ли, что многие выдающиеся физики — Макс Планк, Вальтер Нернст, Макс Борн, Пауль Эренфест, Яков Френкель и другие,— были музыкантами? Можно ли их влечение к музыке объяснить только воспитанием? Можем ли мы пройти мимо высказывания Эйнштейна о том, что «человек стремится… создать в себе простую и ясную картину мира… Этим занимаются художник, поэт, теоретизирующий философ и естествоиспытатель, каждый по-своему», что «высшим долгом физиков является поиск тех общих элементарных законов, из которых путем чистой дедукции можно получить картину мира. К этим законам ведет не логический путь, а только основанная на проникновении в суть опыта интуиция».
Эйнштейн вплотную подходит к глубокому определению сущности поисков композитора — стремлению создать в себе простую и ясную картину мира. По его словам, «музыка и исследовательская работа в области физики различны по происхождению, но связаны между собой единством цели — стремлением выразить неизвестное, они дополняют Друг друга».
«Когда Эйнштейн трудился над построением своей теории тяготения, свидетельствует Поль Дирак,— он не пытался при этом опираться на какие-то результаты наблюдений. Отнюдь нет! Все сводилось к поиску прекрасной теории, теории того типа, который избрала бы сама природа. Он стремился лишь к тому, чтобы его теория обладала красотой и изяществом… Он исходил исключительно из мысли о том, какой должна была бы быть природа, но не из требования объяснения этой теорией отдельных экспериментальных результатов».
И снова в этих словах мы находим определение метода поиска композитора — каким образом он стремится создать в себе «простую и ясную картину мира». Перефразируя Поля Дирака, можно сказать: создание музыкальной конструкции есть свободное творение композитора, который «не опирается на какие-то результаты наблюдений». Все сводится к поиску «идеальной структуры, обладающей красотой и изяществом, структуры того типа, который избрала бы сама природа».
Музыка — странное искусство, где абстракция выступает под маской реальности. До сих пор мы не знаем, что представляет собой феномен музыки. Почему и каким образом она воздействует на человека? Почему различные комбинации звуков, их высота, длительность, динамика, тембр вызывают у него те или иные эмоции? Как и в физике, биологии, психологии и, очевидно, других науках, нам известны многие причинно-следственные связи, мы обладаем выдающимися результатами, но фундаментальные законы остаются для нас тайной…
Среди многих определений музыки правомерно и такое: музыка — конструирование при помощи звуков, также как живопись — конструирование при помощи цвета и формы. Из звуков строится определенная конструкция, которая может быть описана математически и поддается формальному анализу. Но может ли основой музыкального произведения быть конструктивное начало? Разве не должен композитор, прежде всего, заботиться об эмоциональной, образной стороне музыки? Ведь даже говоря о физике, о точной науке, Эйнштейн полагал, что «законы природы не могут логически следовать из наблюдений; они являются свободным творением исследователей» (Макс Борн). А что служит моделью для композитора? Может ли музыкальная ткань сочинения «логически следовать из наблюдений»? Или она «свободное творение» композитора? Любопытно сравнить, как протекает творческий процесс у разных композиторов. Вновь — Бах, Моцарт Бетховен.
Швейцер указывает, что «Бах работал, как математик, который мысленно видит перед собой все множество вычислений, и ему остается лишь осуществить их в числах». Бетховен пишет Брунсвику: «…Что касается меня… словно вихрь мчатся вокруг меня звуки, и в душе моей часто бушует такой же вихрь…» В более поздние годы: «Вы спросите меня, откуда я беру свои идеи? Этого я не в состоянии сказать достоверно… Я улавливаю их на лоне природы, в лесу, в тишине ночи, ранним утром, возбужденный настроениями, которые у поэта выражаются словами, а у меня превращаются в звуки, звучат, шумят, бушуют, пока не станут прямо передо мною в виде нот…»
Моцарт: «Когда я чувствую себя хорошо и нахожусь в хорошем расположении духа, или же путешествую в экипаже, или прогуливаюсь после хорошего завтрака, или ночью, когда я не могу заснуть,— мысли приходят ко мне толпой и с необыкновенной легкостью. Откуда и как приходят они? Я ничего об этом не знаю. Те, которые мне нравятся, я держу в памяти, напеваю; по крайней мере, так мне говорят другие. После того как я выбрал одну мелодию, к ней вскоре присоединяется, в соответствии с требованиями общей композиции, контрапункта и оркестровки, вторая, и все эти куски образуют «сырое тесто». Моя душа тогда воспламеняется, во всяком случае, если что-нибудь мне не мешает. Произведение растет, я слышу его все более и более отчетливо, и сочинение завершается в моей голове, каким бы оно ни было длинным».
Нигде мы не находим указания на то, что композитор для выражения своих мыслей пользуется словами. Бетховен говорит, где и когда он улавливает свои идеи («на лоне природы, в лесу… ранним утром»), но четко проводит различие между поэтом, у которого идеи выражаются словами, и собой. Моцарт на вопрос, «откуда и как» приходят мысли, прямо говорит: «Я ничего об этом не знаю». Следовательно, композитор не «думает словами». «Что значит, в сущности, «думать»?» — спрашивает Эйнштейн в «Автобиографических заметках» 1949 года. И далее пишет: «Для меня не подлежит сомнению, что наше мышление протекает в основном, минуя символы (слова), и к тому же бессознательно». Эйнштейн «думал» именно так. Так протекает мышление и у композитора.
Рассказывая о создании общей теории относительности, Эйнштейн пишет: «Позади остались долгие годы поисков в темноте, полные предчувствий, напряженное ожидание, чередование надежд и изнеможения и, наконец, прорыв к ясности». Разве это не описание творческого процесса, того предельного напряжения, о котором говорилось выше? У Моцарта, как и у Эйнштейна, это напряжение приводило к поразительным результатам. И высшей оценкой, столь характерной для совершенства теорий самого Эйнштейна, звучат его слова: «У Моцарта нет ни одной лишней ноты». Величайший физик-теоретик пользовался методом, свойственным художнику, главным образом, используемым в музыке. И, возможно, столь же яркий пример сочетания логического и образного мышления мы находим в творчестве Моцарта.
Как-то в разговоре, за две недели до смерти, Эйнштейн заметил, что некоторые проблемы физики могут навсегда остаться с нами. Он имел в виду сохранение проблем, несмотря на их решение в данную эпоху. Это и вызывало у Эйнштейна ощущение бессмертия Ньютона и возможность продолжать, минуя двести лет, «обсуждать с ним, как с живым, проблемы мироздания».
Последним сочинением Моцарта был Реквием. Моцарт не закончил его, партитура обрывается на седьмом такте Лакримозы. Это символично: моцартовские идеи уходят в наш век. И это вызывало у Эйнштейна ощущение бессмертия Моцарта и с ним он, как и с Ньютоном, мог говорить о чудесном порядке, царящем во Вселенной…
«…Нужно быть истинным гением, чтобы представить себе, какой должна быть природа, исходя просто из абстрактных размышлений…» Это снова Дирак. «Поверил я алгебру гармонией»,— мог бы сказать о себе и Эйнштейн, перефразируя известные пушкинские слова, также имеющие прямое отношение к Моцарту. К ним мы рискнули бы добавить, что инструментом, которым он пользовался при этом, была скрипка.
Автор: Г. Фрид.