Загадки памяти. Продолжение.
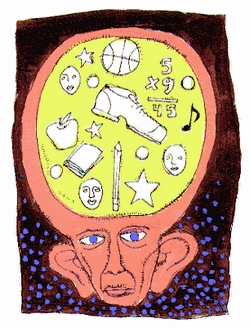
Действие механизма вытеснения памяти описано в двух известнейших русских романах. Фрейд, любивший ссылаться на художественную литературу, не обратил почему-то внимания на эти эпизоды, хотя оба романа читал. Прошли мимо них и его последователи. Между тем эпизоды для теории забывания совершенно хрестоматийные. Когда читаешь «Идиота», говорит писатель и литературовед Александр Мирер, в голову невольно закрадывается «детский» вопрос: почему князь Мышкин, такой умный и тонкий, не побоялся неизбежного конца, зная о готовности Рогожина к убийству и о безумном нраве Настасьи Филипповны, не увез ее куда-нибудь подальше от рогожинского ножа? Ведь ему было два предупреждения.
Незабываема сцена в доме Рогожина, когда тот говорит Мышкину, что ненавидит его как счастливого соперника и причину всех своих несчастий. Мышкин, дает он ему понять, связал свою жизнь с двумя безумцами: от несчастной любви одна готова к смерти, другой — к убийству. «Да потому и идет за меня, что наверно за мной нож ожидает», — говорит Рогожин про Настасью Филипповну. Ожидать ножа должен и князь, тем более что нож, недавно купленный Рогожиным, уже появился на сцене. Князь машинально берет его со стола, Рогожин вырывает его из рук князя. Дальше идет подробное описание ножа со всеми его деталями — формой ручки («с оленьим черенком»), формой лезвия, размерами, с указаниями на то, что нож новый, садовый.
Будь Настасья Филипповна на месте князя, Рогожин, вероятно, с мучительным наслаждением наблюдал бы, как она играет ножом. Но здесь символизируемое ножом действие обращено на Мышкина. Оттого Рогожин в замешательстве и все растущем раздражении. Для него убийство Настасьи Филипповны допустимо, а убийство князя — тяжкий грех. Он борется со своей тягой к этому греху, чем и выдает себя с головой. Он меняется с Мышкиным крестами, подводит его к своей матери под благословение, кричит истерически: «Так бери же ее, коли судьба! Твоя! Уступаю!..» Но перед тем, «странно засмеявшись», бормочет двусмысленную фразу: «Небось! Я хоть и взял твой крест, а за часы зарежу». А не за часы?
Это и есть первое предупреждение. А второе — уже не предупреждение, а покушение на жизнь князя. Преследуемый Рогожиным, Мышкин бродит по Петербургу, то и дело возвращаясь к «внезапной идее», «от которой ему хотелось отвязаться», к «нашептываниям демона», «этому низкому предчувствию». Об «идее» почти ничего не сказано, но мы знаем, что это мысль о смертельной опасности, нависшей над князем. Не сказано же потому, что он сам изо всех сил отбивается от «цинически откровенного предположения», что Рогожин решил его убить.
Круговращение мысли вокруг «идеи» сопровождается кружением в пространстве вокруг «окна одной лавки», в котором был выставлен некий «товар». Поначалу Мышкин и лавку-то не может назвать своим именем — только «одна лавка». Лишь через несколько часов в его мозгу складывается «лавка ножовщика». Он видит в окне нож, но назвать его в своих мыслях не в состоянии. Подобно больному амнестической афазией, при которой из-за мозговых нарушений теряется память на названия предметов, но не на их назначение («Дайте мне то, чем пишут», — говорит такой больной, а музей, например, называет «местом, где развешаны картины»), Мышкин громоздит эвфемизм за эвфемизмом: «товар», «вещь», «вещь в шестьдесят копеек серебром», «в шестьдесят копеек один предмет с оленьим черенком». Но слово «нож» не приходит ему на память. Мысль наталкивается на барьер, на табу и превращается в самообвинение, «не низость ли с моей стороны…».
Даже когда в гостиничной подворотне Рогожин заносит над Мышкиным нож, тот не узнает орудия убийства: «Правая рука его поднялась, и что-то блеснуло в ней», — не «предмет», не «вещь», а чистая абстракция: «что-то». «Идея» получает окончательное подтверждение, а он кричит: «Парфен, не верю!» И он действительно не верит. Не верит потому, что верить не хочет, а не хочет потому, что не жизнь свою защищает, а душу свою, «мысль о себе». Для таких натур, как Мышкин, это дороже жизни.
Блуждая по Петербургу в день покушения, Мышкин произносит про себя свой символ веры: «Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества». Это не громкая фраза, а выраженное в словах представление князя о самом себе. Князь — альтруист до мозга костей, для него (так же, как впоследствии для булгаковского Га-Ноцри) и распоследний злодей — «добрый человек». Можно ли любить человека, которого считаешь дурным? Нет, конечно, а князь хочет любить всех, сострадать всем, иначе и жить не стоит. Что же говорить о Рогожине, которого он уже полюбил, к которому привязался всей душой?
Но Мышкин не настолько уж прямолинеен. Он знает, что в мире существует зло, и мучается от этого. С особой горячностью обсуждает он с людьми «трактирные слухи» и газетные репортажи об убийствах, пытаясь найти им «рациональное» объяснение. Убийство всегда было для него притягательной темой («болевой точкой психики», выражаясь современным языком). Поэтому-то он и мечется в тревоге по городу. Внезапно перед его мысленным взором появляются горящие глаза Рогожина, и мы видим, как вытеснение ослабевает, движется вспять, как слова-заместители в мыслях князя становятся прозрачнее, предмет обретает «олений черенок». Тревога становится невыносимой: «О, что за день! О Боже, какой кошмар!» На подмогу вытеснению спешит рационализация — еще один способ психической защиты. Угроза все-таки не совсем определенная: «Но кто сказал, что Рогожин убьет?» И правда, никто не сказал. Нет, думать о нем дурно нельзя, это низко, бесчеловечно, преступно. Хуже, чем хотеть убийства.
Обвиняя Рогожина, он уничтожал свою душу. Но можно ли не обвинять его? Выхода нет, круг замыкается. Он чуть ли не желает теперь смерти сам — чтобы предчувствия оправдались. Легче умереть, чем оказаться виновным в несправедливых подозрениях… Надежды нет ни на что, он жаждет лишь ясности. Увидев тень Рогожина в подворотне, он уже не отворачивается от вытесняемого облика убийцы, как это было всего часом раньше, но, крича про себя «Сейчас все разрешится!», бросается вперед, пусть под нож, но чтобы все скорее разрешилось. Вытеснение делает последнюю попытку спасти мир князя — как только он убеждается, что Рогожин действительно хочет его убить, «предмет с оленьим черенком» тотчас превращается в «что-то». Неясно ему еще, неясно! Отсюда и порыв повернуть Рогожина к свету и этот крик «Не верю!».
По мнению Александра Мирера, отказываясь видеть в Рогожине убийцу, Мышкин как бы разрешает ему следующее злодеяние — убийство Настасьи Филипповны. Но не будем заходить так далеко. Нам понятно, что ни ее он не мог никуда увезти, ни остаться в здравом рассудке после ее убийства. Мир его рухнул, душа распалась: механизм вытеснения больше не работал.
ВЫСТРЕЛ НА СМОЛЕНСКОЙ ДОРОГЕ
Князь Мышкин — чистейшая душа, Божий человек, но все-таки человек нездоровый, рассудком некрепкий; удивительно ли, что психика его так нуждалась в защите? Но вот еще один положительный герой литературы — Пьер Безухов. Личность тоже незаурядная, умен, добр, отзывчив, порывист, в меру нескладен, но вместе с тем физически крепок… В счастливую пору нашего бесконечного детства считалось, что в нем воплотились некоторые идеалы Толстого. Или это не в нем, а в Левине? Не важно. Мы любили Пьера и были немало шокированы, когда однажды он предстал перед нами в облике Генри Фонды. Вот было споров-то!
А чего было спорить? Лучше бы вспомнили, как Пьер вместе с другими пленными бредет по Смоленской дороге. Платон Каратаев, в образе которого тоже воплощены какие-то идеалы, тяжело болен, дела его плохи, его вот-вот пристрелят, как уже более сотни пристрелили перед тем, хотя Пьер ухитрялся не видеть и не слышать этого, поглощенный всякими успокоительными мыслями. Чем более слабел Каратаев, тем более Пьер избегал его: от больного шел какой- то запах. Вот и сейчас, в последние минуты:
«Каратаев смотрел на Пьера своими добрыми круглыми глазами, подернутыми теперь слезою, и, видимо, подзывал его к себе, хотел сказать что-то. Но Пьеру слишком страшно было за себя. Он сделал так, как будто не видел его взгляда, и поспешно отошел».
Читаем дальше:
«Когда пленные опять тронулись, Пьер оглянулся назад. Каратаев сидел на краю дороги, у березы, и два француза что-то говорили над ним. Пьер не оглядывался больше. Он шел, прихрамывая, в гору. Сзади, с того места, где сидел Каратаев, послышался выстрел. Пьер слышал явственно этот выстрел, но в то же мгновение, как он услыхал его, Пьер вспомнил, что он не кончил еще начатое перед проездом маршала вычисление о том, сколько переходов оставалось до Смоленска. И он стал считать. Два французские солдата, из которых один держал в руке снятое дымящееся ружье, пробежали мимо Пьера… Пьер посмотрел на солдата и вспомнил о том, как этот солдат третьего дня сжег, высушивая на костре, свою рубаху и как смеялись над ним. Собака завыла сзади, с того места, где сидел Каратаев. «Экая дура, о чем она воет?» — подумал Пьер».
Поистине до этого графа большего фрейдиста в литературе не было! И как мы этого раньше не замечали? Тоже всё вычисляли, сколько докуда переходов, да кто лучше воплощает наш идеал…
Автор: Сергей Иванов.
P. S. Духи вещают: А еще память особенно сильная когда мы смотрим что-то очень для нас интересное, как например, мультфильмы с сайта sudakonline.ru. Ведь не секрет, что дети порой запоминают даже точные фразы своих любимых мультяшных героев.