Барселона в портретах

Еще пели птицы, звучала по трансляции тихая, ласковая, как шелест листвы ранним летом, музыка — с «музыкальной побудки» начинался каждый наш день, — а мы уже были в барселонском порту и в иллюминатор к нам заглядывал Колумб. Бронзовая статуя адмирала стоит на шестидесятиметровой колонне на площади Ворота Мира, встречая и провожая мореплавателей. Голова гордо поднята, рукой Кристобаль Колон (так звучит по-испански его имя) указывает на заморские земли, еще, может быть, неоткрытые. Рядом, у набережной, покачивается каравелла «Санта-Мария» — копия флагманского судна флотилии, во главе которой адмирал пересек океан и совершил великие открытия. За несколько песет можно подняться по трапу и увидеть железную койку адмирала, его кованый сундук, карты, постоять на носу корабля, откуда матросы впервые увидели Новый Свет. И можно даже крикнуть что есть мочи на испанском: «Ла Тьерра!» или на своем родном: «Земля!» — за это никто не осудит.

Памятник Колумбу.
На северо-восток от Ворот Мира (умели же площади называть!), рассекая старый город, тянется Рамбла. До начала экскурсии у нас еще было время и мы решили прогуляться. В длину Рамбла чуть больше километра, обсажена по обеим сторонам платанами, за которыми мчатся машины, а посередине, в прохладной, душистой ранним утром тени… Стояла отличная погода.

«Никто из побывавших в Барселоне, — уверен бьи Федерико Гарсиа Лорка, — вовек не забудет ни этой улицы с ее цветами, похожей на настоящую оранжерею, ни ее помоцартовски вдохновенных птиц, которые, несмотря на некоторую бестактность по отношению к пешеходам, насыщают серебром самый воздух Рамблы, осыпая открытые сердца дождем невидимых блесток… Все очарование, величие и бессмертие барселонской души — в этой улице с ее старинными кварталами, где римским фонтанам вторят лютни средневековья, и с другими — пестрыми, грубыми, бесшабашными, где в ночном тумане накрашенных губ и под взрывы предрассветного хохота поют — заливаются гармоники моряков со всего света…»
О миллионах роз и всех цветов, какие только существуют в природе, и о птицах в замысловатых фигурных клетках, стоящих на столиках одна на другой и на свежевымытом асфальте Рамблы, я писать после Лорки не отважусь. Я расскажу немного о художниках. Когда мы впервые шли по Рамбле, взрослые, бородатые художники еще готовились к работе, устанавливали вдоль кромки газона мольберты, выдавливали на палитру краски, прикрепляли кнопками к доскам ватманские листы, а несовершеннолетние художники, которых гораздо больше, уже вовсю рисовали цветными мелками на асфальте героев мультипликационных фильмов, комиксов, нашумевших американских и испанских кинокартин, копировали полотна Риверы, Эль Греко, Дали…

Здесь когда-то рисовал мелками на асфальте, зарабатывая на хлеб, и мальчик по имени Мануэль — копировал работы своего знаменитого земляка. Так обычно начинают рассказ о гении. Но этот Мануэль не гений, не выдающийся художник, во всяком случае пока таковым не признан в мире, хотя сумел потрясти (и в том смысле, и в этом) крупнейшие картинные галереи, частные коллекции, банковские счета. Рисовал, рисовал он мелками на Рамбле — а спустя несколько лет разорвалась бомба. «Начиная с 1975 года, — признался Мануэль Пужоль Баладас, — на мировом рынке абстрактной живописи было больше моих картин — акварелей, гуашей и рисунков, чем его. Думаю, что около четырехсот картин вышло из-под моей руки и лишь примерно сто создал сам Дали».
Картины не были копиями, не повторяли существующих, но внизу стоял автограф Сальвадора Дали и ни одна экспертиза ничего не смогла заподозрить. Вот что выяснилось. Пужоль познакомился с женой Дали, Галиной Дьяконовой (изображенной, кстати, на многих полотнах), и она, посмотрев его работы, сказала: «Картины хорошо написаны, но у тебя нет коммерческого взгляда. Так ты никогда не разбогатеешь. Я знаю, чего хочет богатый покупатель, послушайся меня. Рисуй с диким воображением, ведь ты же не Ван Гог и не Модильяни». Пужоль часто бывал в доме Дали, работал день и ночь, но его «дикое воображение» не пользовалось диким спросом до тех пор, пока ему не предложили практически помогать маэстро, у которого уже дрожали руки. И он стал помогать. «Сделать имитацию его картин, включая подпись, мне было несложно. Нарисовать акварель или гуашь — на это уходило не более трех часов, а маслом — пару дней».
Продавались шедевры за десятки, сотни тысяч, за миллионы долларов. Когда разразился скандал, Сальвадор Дали развел руками: «Он разгадал секрет моего стиля, мою манеру и мою образность. Что я могу теперь поделать?»
Многим обязан Рамбле Пабло Пикассо — здесь он начинал, учился в художественной школе неподалеку, и здесь к нему пришел первый успех. Он прожил девяносто два года, стал самым знаменитым художником XX века и перед смертью подарил барселонскому музею три с половиной тысячи своих произведений — восемьсот картин, скульптуры,
керамику, эстампы…
И каталонца Хуана Миро учила Рамбла. И каталонца Бунуэля. И каталонца Антонио Гауди — но о Гауди разговор особый, хотя бы потому, что и Пикассо, и Дали, и Миро, и Бунуэль, и Хуан Грис ушли из Каталонии, из Барселоны, а Гауди остался.
Сидит на асфальте кудрявый длинноволосый паренек лет одиннадцати. Нога в ортопедическом ботинке на толстой подошве. Рядом лежит костыль и баночка с медяками, под ней картонка, на которой написано: «Благодарю!» Он рисует Сикстинскую мадонну, ее глаза. Рядом его ровесники нарисовали уже множество святых, красоток, чудовищ, футболистов, вождей, Рэмбо с ручным пулеметом — денег в их баночках гораздо больше. А этот паренек не торопится. Он рисует Мадонну.
Еще я видел на Рамбле фокусниц-таиландок, проглатывающих десятки разноцветных шариков, которые обращаются в белых голубей. Женщину-змею, извивающуюся на столе и на шее у своего бритоголового, с рыбьими глазами, партнера. Женщин-культуристок, демонстрирующих дико развитую мускулатуру, — отвратное зрелище. Силачей с гирями. Индийских йогов. Карликов. Попугаев, ругающихся на всех языках мира, даже по-русски. Настоящих маленьких акул в аквариуме.

Вот факир, небольшого роста сухощавый азиат, голый по пояс, босой, с косичкой. Вокруг него собралась толпа, но он не спешит — расхаживает между широкой доской, утыканной гвоздями миллиметров в сто, и грудой мелкобитого стекла, сосредотачивается и одновременно отвечает на вопросы любопытных, которые что-то записывают в блокнотики. Проходит пять минут, десять, зрители, потоптавшись на месте, собираются уже расходиться — и он включает магнитофон. Сжимается и каменеет его скуластое смуглое лицо. Медленно он подходит, поворачивается спиной и укладывается на стекла. Неподвижно лежит, смотрит на небо, виднеющееся между ветвями платанов. Поднимает ноги и достает кончиками пальцев до земли у себя за головой, словно делает зарядку. Появляется девушка, похожая на него, сестра, должно быть, становится ему на грудь и, вся в шелках и солнечных бликах, начинает танцевать, заниматься своеобразной аэробикой под азиатскую тягучую музыку, а факир лежит, как ни в чем не бывало и смотрит на небо. Девушка исчезает, факир, полежав еще немножко, нехотя подымается и проходит по кругу, подставляя кино и фотообъективам свою искромсанную, но без единого пореза спину, с которой сыпятся прилипшие осколки. Факир улыбается. В коробку падают со звоном монетки. Туристы расходятся довольные, обсуждают, подходят другие — смотреть, как факир будет ходить по гвоздям и глотать шпаги. Снова появляется девушка и незаметно опорожняет баночку, оставив там две-три мелкие монетки.
Вот гадалка, древняя, как сама Рамбла. За два доллара у нее можно узнать, что будет с тобой и с миром. А рядом другая, лет четырнадцати, очень хорошенькая, похожая на куколку, гадает по линиям ладони — у нее вряд ли узнаешь, что будет с миром, но она пользуется большей популярностью, чем старуха.
Танцуют под мандолину сестры-близнецы в национальных платьях, аккомпанирует отец. Стучат кастаньеты, стучат каблучки, блестят черные испанские глаза и алые накрашенные губки, зрители хлопают в такт, улыбаются, толстяк-немец не удерживается и тоже пускается в пляс, за ним старуха-американка, увешанная фотоаппаратами, летят со всех сторон под ноги цветы… Праздник? Нет, работа.
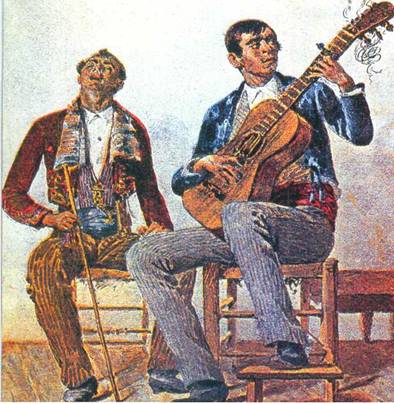
Лежит посреди дороги небритый грязный мужичок лет пятидесяти. Подходят двое полицейских, он встает, они отходят, он ложится и смотрит, подперев голову рукой, полицейские подходят, что-то ему говорят, он отвечает, встает, отходит шагов на тридцать и снова ложится на асфальт, полицейские снова подходят… Мужичок ни у кого ничего не просит, ничего никому не демонстрирует — он, кажется, просто решил полежать. Возможно, он безработный, ему негде спать и нечем кормить детей. Но как-то уж слишком надменно он взирает на обходящих его и слишком бурно выражает недовольство тем, что не дают спокойно полежать, отдохнуть.
У колонны Колумба мы сели в автобус, и началась экскурсия по городу. Экскурсовод, средних лет миловидная женщина, хорошо говорила по-русски.
— При фашизме Франко Барселона была другой. Старые дома не реставрировались и стояли темные, обшарпанные. Новых почти не строили. Большинство из восьмисот тысяч посаженных в начале века платанов было выкорчевано. Вместо парка построили крупнейшую бойню. Запрещалось петь народные песни, танцевать народные каталонские танцы — сарданас, а раньше танцевали на площадях… Все запрещалось. Наша Диагональ была переименована в Авениду Генералиссимуса Франко. Всюду висели его портреты. Старые районы утопали в грязи, «баррио чино» был самым грязным и самым страшным районом в Испании, в мире. А в 1977 году, после выборов, Барселона, как и вся Испания, снова расцвела.



От моря, от Ворот Мира мы проехали до подножия горы Тибидабо, пересекли Барселону по Диагонали, проехали по другим улицам и проспектам, старым и новым, останавливаясь, выходя, слушая экскурсовода, с которым нам повезло. Кафедральный собор — застывшая в XIII веке готическая симфония, дом, где Сервантес закончил свой великий роман о человечестве, музеи, дворцы, колонны, арки, неописуемой красоты фонтаны с цветомузыкой, библиотеки, университет, стадионы, бульвары, сады, суперсовременные многоэтажные здания со стенами из темно-коричневого зеркального стекла, увитыми виноградом, простор, прохлада улиц, продуваемых морскими ветрами, восьмиугольные площади — углы домов усечены, видны лишь фасады, нет одинаковых, потому, что во всем городе нет двух одинаковых домов.
