Время красоты

Не так давно случилось побывать в Андрониковом монастыре. Мой знакомый, житель Поонежья, решил узнать цену трем иконам, взятым из деревенской часовни. Когда он показывал их, вынимая одну за другой из потрепанного портфеля, я вновь вспоминал черные избы маленькой деревни, баньки среди валунов у воды и высоко, на гребне морены-сельги, острый силуэт часовни с клинчатой кровлей, далеко различимый с озера.
Часовню эту «любители старины» разграбили в 1971 году. Затея была не из трудных — двери в часовнях, как и в домах, пока не запираются в тех местах на замок, а только подпираются палкой, чтобы не открывал ветер. Осталось три иконы… Застигнутые врасплох грабители бросили их, убегая. Вероятно, для них они были не из самых ценных. Но для моего гостя в этих иконах была память отца и деда, память предков, живших искони на берегах большого северного озера, а мне, горожанину, они напоминали простоту и скромность некрашеных северных изб, шатры церквей, уходящих дрожащим столбом в туманные разливы белой ночи, весь тот мир, от которого в незапамятные времена пошли все мы и который почти забыли потом за рулем машины или в толчее метро.
Три иконы аккуратно положены на окованную крышку сундука в фондах музея Андрея Рублева. Искусствоведы, знатоки древнерусской живописи, подошли, посмотрели и опять углубились в работу. Нам объяснили, что иконы самые простые, крестьянского письма, середины позапрошлого века. «Как говорится, «художественной и научной ценности не представляют». Но берегите их, лет через сто им цены не будет, ведь больше никто так не пишет»,— предупредил, прощаясь, знакомый реставратор. И три иконы снова уехали в маленькую деревню, на берег холодного озера.

В этом вердикте, весьма квалифицированном и научном, что-то было не так. Нет, я не усомнился в правильности датировки, в том, что иконы написаны не профессиональным изографом, а крестьянином-любителем. Все это было абсолютно верно. Сомнения мои лежали в иной плоскости — неужели время создания произведения искусства может быть основным критерием в определении его «художественной и научной ценности»?
Идя по садику мимо каменного Андрея Рублева, я думал над тем, что для любой художественной галереи стали бы, вероятно, добрым подарком картины Рериха, Сомова, Малевича, Бенуа, Серова. В картинах известных художников, в статуях известных ваятелей, в постройках знаменитых зодчих «…мы чтим,— как писал Иван Алексеевич Бунин, — сосредоточенность тех высоких сил, что заключены в некоторой мере в каждом из нас».

Коли так, то уместно ли говорить о времени создания великого творения как о критерии его ценности? Не вневременна ли красота? А если время действительно «боится пирамид», то почему так часто встречаются на нашем пути год, век, эпоха как отправные точки в «дороге к прекрасному»? Как же соотносятся время и красота творения?
Представим себе на минуту, что в залах Третьяковки исчезли под полотнами таблички с именами художников. Мы в галерее впервые. Впервые знакомимся с живописью. Что привлечет нас к одним картинам, что позволит пройти равнодушно мимо других? Ответить на вопрос нелегко. Можно предположить, что зрители восхищены разными художниками, различными школами. Одни остановились перед Рокотовым, Аргуновым, другие предпочитают передвижников, третьих пленил «Мир искусства», а кто-то так и не поднялся снизу, от икон.
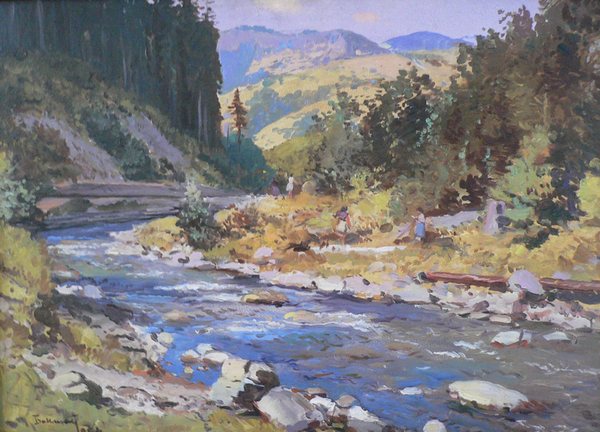
Думается, что, не имея перед глазами известных имен, под знаком которых проходит приобщение к искусству, посетитель смог бы выбрать вещи «по вкусу», идеи которых оказались ему близкими, понятными, породили мысли, переживания. В этом простом выборе — смысл художественного творчества. За таким непредвзятым контактом зрителя и автора, за возникшим между ними через века диалогом скрыта огромная сила искусства. Имя этой силе — образ произведения.
Образ бежит точных определений. Ему ближе описательные, символические знаки. В характеристике музыкального произведения можно прочесть и о звоне капели, и о пении косцов, и о гуле далекого сражения. И все же то, что услышит сидящий в консерватории, будет мало похоже на эти звуки. Упоминание о них скорее передает общее настроение, не больше. Общее настроение. Оно свойственно не только музыке. В хорошей книге редко главное — фабула. Чаще оставляют глубокий след те рассказы, повести и романы, где сам эмоциональный строй повествования формирует чувственный мир читателя, заставляет его обратиться вовнутрь себя. То же архитектура, ваяние, живопись. Здесь мы приближаемся к «святая святых» искусства, к тому, что делает его вневременным, вечным.

Не похожи как будто народы, жившие в разных частях света во многие эпохи. Их уклад жизни, их философские и религиозные взгляды, их принципы морали могут быть глубоко чуждыми друг другу. И все же в лабиринтах кносских дворцов ценились изделия нильских мастеров, античные статуи украшают бельведеры Ватикана. Научные трактаты Леонардо да Винчи стали историей естествознания, физики, механики. Мы, читая их, восхищаемся гением Флорентийца, но вряд ли будем использовать его научные выкладки в своих диссертациях и исследованиях как основное подспорье. «Джоконда» заставляла стоять по три часа в очередях вовсе не потому, что в истории мирового искусства мало живописных произведений, занимающих столь почетное место.

Всматриваясь в небольшой портрет, мы через сумму фактов, пролегающих полутысячелетний рубеж между зрителем и художником, ясно видим то общее, что свойственно человеку вообще. Личная практика, жизненный опыт, принципы — все, накопленное смотрящим за немногие отмеренные ему годы, находит он в великом творении прошлого, ставшем достоянием вечности. Призыв Сократа «познать самого себя» — неодолимое стремление каждого ума, и произведения искусства, порожденные этим стремлением, встречают своего ценителя в современнике, равно как и в далеком потомке, ищущем собственный ответ на вечный вопрос: «Что есть Я?»
Автор: А. Зубов.